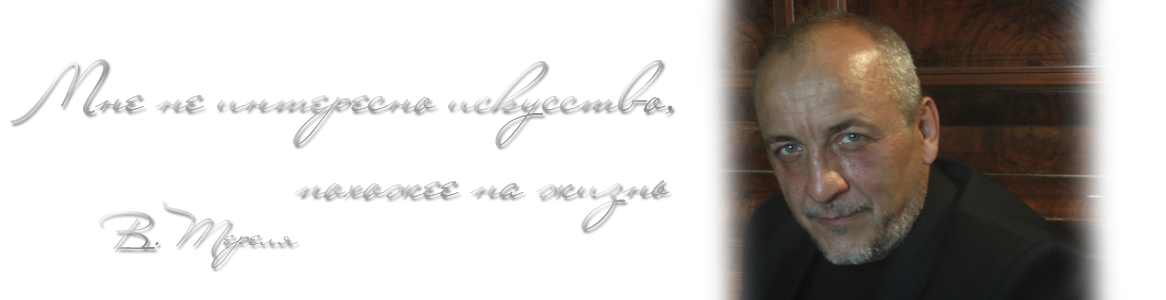
Театр
Петербургский театральный журнал. № 27, 2002
Февраль
Виктор Тереля
Возвращение философии к вопросам театра
Наконец-то, наконец-то философия вышла из привычного для нее состояния «вещь в себе» и обратила свой взгляд к вопросам культуры, в частности театра. Победив в себе страх стать прикладным видом, философия явила на страницах нашего петербургского журнала замечательные размышления о сущностях творчества. Возможно, то, что мы оказались брошенными «матерью искусств» (как называли философию древние), отучило нас искать ответы в самих сущностях и заставляет довольствоваться внешними разнообразными проявлениями этих сущностей. Так часто, желая вылечиться, мы пьем груду лекарств, предполагая примерный диагноз, а то и вовсе не заботясь о нем. Так политики лечат страну все больше кровопусканием, не заботясь о ее группе крови и уж совсем не интересуясь диагнозом.
Философия искусства, надо признать, за последнее, довольно длительное, время была сведена к чистой археологии. Я мечтаю о ее обращении к живому театру и хочу надеяться, что к нам вернется полновесное понятие — философия искусства.
Я, как практик, не могу не высказаться по поводу публикации Ю. М. Шора «Актерство и грех».
Само название статьи более узко, чем те смыслы, которые мы вычитываем при целостном взгляде на текст, поэтому второе название, «Заметки о двух путях человеческой души», кажется более полновесным. Думается, что количество аспектов этой темы еще больше. Но для того, чтобы не блуждать по лабиринту общепринятых мнений или не собирать профанных суждений из зрительного зала, стоит, пожалуй, остановиться и подробнее рассмотреть несколько моментов, которые отражают, прежде всего, природу самого греха и принцип его осознания. «Определять нечто как грех или ощущать греховность — осознавать его». Правильный акцент есть камень преткновения в рассмотрении данного вопроса. Действительно, лицедейство рассматривалось как грех и выводилось в отдельную статью, как бы отмежевывалось от творчества в его разновидностях (литература, живопись и т. д.). Скорее всего, это вопрос чисто клерикального характера, поскольку, при разнице в инструментах, принцип у творчества одинаков. Но другой, вполне самостоятельный вопрос — это границы дозволенного или, наоборот, табуированного в творчестве: «смеяться над Богом можно, но вот чего нельзя — играть веру в Бога, иначе, как Ставрогин, начнешь понимать, что нечем жить».
Очевидно следующее: при всей своей противоречивости художественное и религиозное, два антипода, странным образом от самих истоков шествуют рука об руку. Эстетическое и этическое, как единство противоположностей. Но мне кажется, что правильнее сравнивать эти два института не по качественным их определениям («многоцветье, изобильность — самоуглубленность и тихое созерцание»), а по цели их воздействия. Можно, пользуясь методом Сократа, найти абсолютный эквивалент категории этического — Бог. Но если, следуя тем же путем, мы будем искать абсолют эстетического, я думаю, мы согласимся с довольно прозрачными выводами Платона и также скажем — Бог. Эстетическое и этическое сольются. «Если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрасное само по себе, прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, красками и всяким другим бренным вздором, если бы это божественное прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии? Неужели же ты думаешь, Сократ, — сказала Диотима, — что человек, устремивший к нему взор, подобающим образом его созерцающий и с ним неразлучный, может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, Сократ, что лишь созерцая прекрасное тем, чем его надлежит созерцать, он сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он истину, а не призрак?» Сущность Бога и его Лик, содержание и форма. Сам собой напрашивается принцип исследования единства противоположностей.
Следуя принципу единства противоположностей, прежде всего, мы должны ответить себе — что такое грех? Затребованное, но запретное, приказанное, но в то же время заказанное под страхом проклятия (Авраам, Исаак) и именно поэтому замененное на овна (козла отпущения). Отсюда — прекрасное размышление Ю. Шора об актере как козле отпущения, играющем и выражающем в себе образ нашей общей греховности, аккумуляторе вины, кричащем вслух о своем грехе. Но ведь здесь важна динамика: если воспринимать «Великого Инквизитора» в статике, то это богословский, философский трактат, но если посмотреть на него в динамике, то сразу вырисовывается душа самого Достоевского и «Великий Инквизитор» превращается в исповедь, величие которой трудно себе даже представить. Наша душа краснеет от разных мелких помыслов. Но душа, способная родить три страшных вопроса и задать их вслух, перед всем миром, признаться в них, — это жертва покаянная, дух сокрушенный, исповедь всеобщей души человеческой. И мы понимаем, что это наши грехи, и воспринимаем это размышление вполне в духе древнегреческого понимания театра, ритуального по своей цели, где актер полностью отождествлялся с жертвой. Он освещался как жертва, а публика очищалась после свершения данного ритуала, неся на себе двойственность жертвы, так сказать ее амбивалентность — «убивать жертву преступно, поскольку она священна, но жертва не будет священной, если ее не убить».
Игра замещений в ритуале и в театре имеет одну природу или, вернее, должна иметь, если следовать древнегреческому пониманию театра и трагедии. Ритуал жертвоприношения содержит в своей сути коллективное учрежденное насилие, которое принимает на себя один, чтобы освободить от него остальных. Это — параллель к взаимоотношениям актера и зала, и эта тайна театра, как и тайна жертвоприношения, сохранится, как бы ни было усыплено наше любопытство благоговейными формулами классического гуманизма. Трагедию действительно можно обозначить как путь от художественного к христианскому.
Рассматривать единство данных противоположностей можно только на территории, которую условно можно назвать «высоким» в искусстве. Это касается таких жанров, как высокая комедия, трагедия и мистерия. Религиозный институт пользуется театром как таковым, прибегая к мистериальным действам — «Рождественский вертеп», «Пещное действо», «Вхождение на осляти» и т. д. Русская иконопись хоть и была полностью подчинена канону, все же не избежала воздействия на себе художественного, ничуть не погрешив перед истиной. Итак: мистерия и мистагогия. Если последнее — это литургия и в евхаристии участвует непосредственно Святой Дух, то мистерия — это человеческое припоминание. Хотя в ней и фигурируют божественные сущности, она не лишена творческого начала и даже подразумевает его, поскольку это представление. И, тем не менее, это театр, находящийся на территории духовного, где для театра существует много табу, и их нарушение опасно. Вопросы, которые исследует такое действо, подобны храму, а не мирской жизни. Таким театром является театр Гротовского и театр Васильева. Речь идет о ритуальном искусстве, не связанном с обычной душевной жизнью. Это не совсем представление — делается ритуал, творится действо. Такой театр не закольцован на зрителе, а только на делателях, и зритель лишь присутствует при этом, как в храме. Актер так же, как и в древнегреческом театре, — мист, жрец освящающийся. Нарушение табу в мистерии — это еще один аспект в формуле «актерство и грех». Ритуальный театр исключает эго дарования. Личный выбор — это уже уход от ритуала. Я говорю о ритуале не как принадлежности культуры, а о ритуале в религиозном смысле. Культурно-антропологический взгляд на ритуал не объясняет сущности ритуала как религиозной сути. Такой театр есть служение. В обычном театре время профанно, в ритуале время нереально. Ощутить нереальность времени легко, находясь на православной литургии. В театре мы наблюдаем время действительное, в храме — действующее. Для примера: прекрасное слово «сущий» — не просто «существующий», но участвующий в бытии, слово, обозначающее акт.
Если рассматривать истоки театра, можно проследить два различных пути. Путь духовных исканий и путь красоты, в платоновском понимании, там, где разделились дионисийская архаика и аполлоническое начало нового эллинского мировосприятия, которое началось раньше Платона, когда на смену дифирамбическому искусству пришло время поэтов, когда трагедия, возникнув из мифологических, ритуальных форм, стала сама утаивать себя в качестве ритуала в драматическом и литературном употреблении, сохраняя при этом, как всякое сильнодействующее искусство, пусть и в слабой степени, инициатическое воздействие, поскольку дает ощутить учрежденное насилие — акт жертвоприношения и, испугавшись, испытать катарсис — акт очищения. И хотя внешне греческая трагедия, казалось бы, — вполне дитя гуманизма, дитя культуры, но вопрос о том, причастен ли поэт к хрестоматийному «крику козла», для Платона являлся очевидным. И он, не понимая, каким образом трагическое насилие дионисизма может являться синонимом гармонии, красоты и безмятежности, изгнал поэтов из своего государства как грешников. И началась эпоха гуманизма. Удел поэта — эстетическое. Впрочем, назовем это лишь экзотерической частью утверждения Платона.
Чтобы постичь истинную суть греческой трагедии, стоило бы внимательно изучить процедуры, которые позволили античному гуманизму минимизировать и даже целиком устранить страшные стороны архаической греческой культуры. Гениальность древнегреческой культуры и искусства заключается в том, что они выработали такое понимание богов, которое стало зеркальным щитом Персея, заслоном от древних пластов жестокости варварских религий, но в то же время не отменило их сути. Над этой темой так много пролито чернил, но с точки зрения культурной герменевтики эти тексты все так же не постижимы и практически не открываемы. И тот, кто пытается постичь их истинную суть, — должен иметь смелость взглянуть в глаза Горгоны, а значит, быть причастным греху, ибо только так можно оседлать Пегаса, рожденного из ее крови.
Итак, Красота и Дух. Реальное различие этих двух путей в искусстве глубоко осмыслено. Это и фраза О. Уайльда: «Всю жизнь я служил Красоте — отныне буду служить Страданию». Это и жизненный путь Сандро Боттичелли, творчество которого кардинально изменилось после встречи с Савонаролой и «Рождение Венеры» сменили образы скорбящей Божьей Матери. Но мне хотелось бы остановиться на стихотворении А. С. Пушкина «К морю». «Прощай, свободная стихия…» — и дальше прощание с красотой и мощью этого романтического образа, с кумирами молодости и романтических увлечений — Наполеоном и Байроном. И куда же бежит наш певец красоты? «В леса, в пустыни молчаливы». Отшельник решил поселить свою музу в скиту. Это значит, что юный поэт вырос и отныне его путь духовный. Почему?
Вернемся к Платону: «Ибо красота, Федр, запомни это, красота божественна (горнее) и, вместе с тем, зрима, и значит она путь чувственного, маленький Федр (дольнее), путь художника к духу. Но ведь ты не поверишь, мой милый, что тот, чей путь к духовному идет через чувства, может когда-нибудь достигнуть мудрости, истинного мужского достоинства, этот опасно-сладостный путь есть путь гибельный, грешный, который неизбежно ведет в беспутье. Ибо ты должен знать, что мы, поэты, не можем идти путем красоты, если Эрот не сопутствует нам, не становится дерзостно нашим водителем». Один из персонажей «Собора Парижской Богоматери» В. Гюго, священник Фролло восклицает: «…ты ангел, но ты ангел мрака, сотканный из пламени, а не из света…» В этом восклицании сущность противоречия. Томление по Красоте, подобно пламени, сжигает художника, живущего страстями, в то время как вера рождает смирение, покой, свет. Тема души, обуреваемой страстями, вполне разработана в литературе, особенно эпохой модерна, где каждый герой, упившись своими страстями, в конце концов свершает свой выбор и, подобно библейскому блудному сыну, возвращается к Отцу своему, к душе, к Кресту. Пожалуй, образ блудного сына и есть лучший образ художника. Оскар Уайльд явил этот образ своей собственной жизнью. То же самое можно сказать и о Н. В. Гоголе. Важно другое: что же такое нужно увидеть, чтобы один экстаз сменился другим и Савл стал Павлом? «Самосожжение Н. В. Гоголя» имеет ту же природу: ренессансное разнообразие, буйство красочных образов во всем своем диапазоне от приторно-сладкого Рафаэля до ужасающих фантасмагорий Босха заменил один образ, скажем, рублевской Троицы. И воздействие это таково, что идти дальше невозможно, нужно возвращаться. Эстетическое способно привести художника к чувственному пониманию этического. Понимание художником греха как переживания, как личного опыта приводит художника к осознанию радикальной зависимости от религии:
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый…
Из личного опыта, переживаемого как осознание греховности, рождается «Исповедь» Августина Блаженного или философия Кьеркегора, рождаются философы, пророки. Это уже не художники, для которых искусство — средство служения красоте, они возвращают культуру вспять к ритуалу, к мифу.
Особенно это касается творчества Ф. М. Достоевского. Побивание древних пророков, кричащих о жертвенном кризисе, — это греческая трагедия, где сами они становятся козлом отпущения. Молодые материалисты, как выразители ренессансного, эмансипированного, эгоцентричного в человеке, так единодушно ополчившиеся на «Выбранные места из переписки с друзьями», совершили то же самое. И вот художник-артист снова в его греческом понимании — аккумулятор вины.
Я не стал бы сразу соглашаться с Розановым и с его определением «актерского существа как глубоко дьявольского». Скорее всего, подобное суждение выходит из неполного представления о природе самой профессии актера, равно как и творчества вообще, поскольку прежде чем роли сыграны, они уже рождены во вполне законченном, эмоциональном виде писателем-драматургом. Так же крайне субъективен, хотя и красив в своей формулировке замечательный трактат Ф. Степуна «О многодушии». С таким же успехом я смогу утверждать, что каждая мысль, явная или тайная, обычного человека имеет свой лик мечтательный, подлый, страшный, забавный и т. д. Скорее всего, Степун говорил не о душе актера, а об актерской природе души как таковой.
Вообще, виной всему — опрометчивые высказывания самого актерского братства, желающего придать своей профессии флер исключительности, таинственной оригинальности. Отсюда такие туманные выражения, как «перевоплощение», «надевает роль», «войти в другого» и т. д. Попробуем определить этот вопрос для художника вообще, не выделяя актеров как нечто отличное.
Итак, что есть реальность для художника (не человека)? Воображение (именно не фантазия, не простое сочинительство). Это постижение реальности, которая спит в глубинах человеческой души, это выход из реально существующего мира, это воспоминание о высшем типе человека, Человека как мифологемы. Это движение не целенаправленно, это скорее бунт Высшего Человека против своей собственной устремленности в материю как следствие грехопадения, поэтому высокое в театре — это постижение древних ритуалов, изучение таких жанров, как мистерия, трагедия, где язык имеет священное звучание, подчиняясь внутреннему движению, а не интонации быта. Это соотношение гармонии и хаоса. И снова обнаруживается все то же единство противоположностей, что и раньше. Вместе с потерей веры в Бога умирает искусство. Оно оказывается ограничено рамками видимого мира и, играя в подобия символов, выдает мертвые, безассоциативные образы. Технократия, прогресс как утилитарное узконаправленное знание убивают не только веру в Бога, но и воображение. Даже предположение, что человечество уже прошло свой пик духовного и культурного развития, — само по себе истинная трагедия, где в жертву осязаемому миру принесен Дух. Представьте себе веру в Бога без воображения. Воображение — это кислород для художника, а реальный мир — разреженное пространство. Лучше и точнее сказать, воображение — это среда, где возникают образы, и важно не путать воображение с фантазией, поскольку фантазия лишь инструмент, который созерцает образы и извлекает их из моря воображения. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что идея истинного творчества — это идея подвижничества.
Так неужели художник не осознает своей ответственности в соприкосновении с этим миром? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно вспомнить цитату из Евангелия: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого — простится ему; если же кто скажет слово на Духа Святого, не простится. Или признайте дерево хорошим или плод его, ибо дерево познается по плоду». Пожалуй, М. Бубер в своей книге «Два образа веры» ближе всех подошел к пониманию данного высказывания, предложив для рассмотрения два мира: мир отношений (Я — Ты) и мир определений (Я — Оно). В какой-то момент в человеческом сознании цельная, единая картина мира явила ему свою дискретность и мир стал двойственен, к миру отношений Я — Ты добавился мир определений Я — Оно, как сумма свойств, количество и качество, заключенные в форму, которые можно использовать для ориентации в мире. Возможно, с возникновением мира определений родилась философия. С этого момента стало возможным разговаривать не только с Богом, но и о Нем. Но как говорит Бубер: «Бог, о котором можно говорить в третьем лице, — мертв, Бог — это Я и Ты». Молитва — это не речь о Боге, это речь, обращенная к Богу. Все, что говорится о Нем, — ложно, а все, что говорится Ему — истинно, как бы ни заблуждался говорящий. Один мир опосредованного, другой непосредственного. Можно разделить искусство на объективное и субъективное. Акт объективного искусства есть акт явления образа, который предстает делателю, чтобы через него стать произведением. Этот образ не есть порождение души или фантазии, он — то, что является, и требует, и взыскует с делателя созидательной силы. И если происходит акт отношения Я и Ты, то изольется поток созидающей силы и явится произведение. В этом акте заключена жертва и риск. Жертва в том, что многообразие возможностей, которое играет богатством форм, нужно искоренить, дабы сохранить исключительность предстоящего образа, а риск заключается в том, что ты должен находиться только на территории отношения с образом, но не на территории определения этого образа. Ты должен служить ему. Если ты не служишь ему, как должно, он уничтожит либо себя, либо тебя. Это литургическое служение образу.
Именно об этом говорит Тарковский в своей картине «Андрей Рублев». Вспомните эпизод ожидания Рублевым единственного, исключительного образа, вспомните, как уговаривает его собрат по цеху, Данила, говоря, что и где должно быть нарисовано и что все ясно и просто. В аспекте лицедейства и греха в фильме существует и Скоморох. Не мог Рублев, находящийся в мире отношений Я и Ты, предать Скомороха, находящегося на территории мира определений Я — Оно. Скоморох не имеет отношения к греху, его территория профанная, опосредованная, в то время как сам Рублев находится все время в непосредственной близости с грехом, ощущает его ужас.
Такое творчество есть сам акт Духа.
Итак, получается, что говорить о грехе художника, находящегося на территории профанной или, скажем, светской и на территории высокого искусства, как его ни называй (ритуального, священного, объективного), — это еще один аспект взгляда на грех. В одном случае грех — реальность, в другом лишь тень греха. Понятие греха имеет много ликов, стоит нам сравнить понятия социального греха (прелюбодеяние, кража) и греха, связанного с нарушением духовных табу, с вхождением в запретные сферы, высшие и низшие (колдовство, волхвование, магия), — и мы увидим пропасть, разделяющую эти два полюса. Я лично принимаю проблему «творчество и грех», лишь когда она исходит от самого художника, как способ познания самого себя. Ну а для тех, кто думает об актерах с других точек зрения, в этой оппозиции слышна нота обвинения. И посему для них я предлагаю: «Бросьте в нас камень, если уверены, что…»
© VictorTerelya, Виктор Тереля 2010 - 2012
Вернуться на главную страницу
Все права на видео, фото, аудио и прочие материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и (или) владельцам авторских прав.